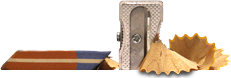Новости
Статьи
Николай Ерохин: «О себе нужно говорить только хорошее… Источник забудется, а слух останется…»
28.08.2018
 Николай Ерохин в роли Андрея Хованского
Николай Ерохин в роли Андрея Хованского
Олеся Бобрик беседует с Николаем Ерохиным.
— Из интервью и от общих друзей и знакомых я знаю, что к оперному пению как профессии Вы пришли не сразу. Тем интереснее предыстория…
— Наверное, можно начать со школы в Томске. Я закончил девять классов (в школе все перекрестились, потому что учился я не очень хорошо) и поступил в Коммунально-строительный техникум. Проучился там две недели. За это время учиться в техникуме мне надоело, я получил стипендию и поехал с тетей отдыхать в Алма-Ату на Капчагайское водохранилище.
Приехали в октябре месяце обратно. И тогда моя мудрая бабушка сказала: «Ну, и что будешь делать? Чем хочешь-то заниматься? к чему у тебя душа лежит?» — «Ну, бабушка, конечно, песни петь!» — «Ищи, где поют!»
Я перешел через дорогу и попал в Томский областной колледж культуры, где меня прослушала Нина Павловна Калинкина, которая и стала моим педагогом. Она как-то сразу поняла, что я не должен заниматься народным вокалом, и три года просто сохраняла мой голос…
— А мне кажется, Вы и народные песни могли бы петь… В Вашем исполнении можно представить любой репертуар.
— Да, могу. Мне это легко. Во время застолья в приятной компании я с удовольствием пою репертуар Зыкиной.
— И все-таки, как началось обучение академическому вокалу?
— Я учился в Томске в Колледже культуры на русском народном отделении и пел в русском народном хоре разные «Люли-Люли…» Но однажды композитор Геннадий Чёрненький написал песню «Серебристый город на Томи» к 390-летию города Томска. Я пел ее в филармонии. Был большой сборный концерт, приехало много звезд…
На этом концерте меня услышала Анна Александровна Асиновская, доцент Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, которая сказала, что мне надо поступать в консерваторию. На этом концерте был и Лев Валерьянович Лещенко. Я, наглый мальчик, пришел к нему в гримерку со словами: «Послушайте меня!»
Он меня распел, я ему и песню спел под минусовку (магнитофон нашел где-то в филармонии)… И он посоветовал мне учиться в Москве. Но я с подачи Анны Александровны уехал в Новосибирск.
Я приехал в Новосибирск совсем ребенком, в 18 лет. По протекции Асиновской должен был учиться у Нины Ивановны Лубяновской. Но заведующая кафедрой сказала: «Мы блатных не берем». И я попал в класс к Владимиру Николаевичу Урбановичу. О чем нисколько не пожалел.
Он баритон — очень крепкий, настоящий. И первая моя школа — школа звука, идущего от слова, — это его школа. Я думаю, Вы согласитесь, что каждое слово, мною пропетое (особенно в русских операх) — понятно. Так получается, когда формирование звука происходит «в роте», как он говорил, а потом уже из маски он выводится на зрителя.
— Вас тогда вели как тенора?
— Я всегда был тенором, но в то время — ультра лирическим. Пел Ленского. С четвертого курса Новосибирской консерватории меня выгнали.
— Почему?
— Я опоздал на учебу. Приехал в октябре. А в консерватории был ректор Гуренко, с которым я не дружил. Он нашел возможность выгнать меня… И я семь лет вообще не занимался академическим вокалом.
Я вел шоу, был ведущим на разных праздниках: свадьбах, юбилеях и тому подобное… Записал эстрадный альбом. Меня даже начали потихонечку «раскручивать», я появлялся в телевизоре на разных шоу… У нас с женой появилось праздничное агентство, всё было «в шоколаде».
— И Вы не испытывали дискомфорта от того, что оставили академическое пение?
— Я никак не думал, что буду заниматься оперой… Сижу однажды на диване и говорю жене: «Хочешь, в консерваторию поступлю?» Она: «Кто тебя примет, старого?» (Мне было почти 33 года.) Но я решил поступить. Узнал, кто в Московской консерватории заведует кафедрой.
Пришел к Петру Ильичу Скусниченко и прямо сказал, что я именно тот, кто должен у него учиться! Я спел ему арию Князя из «Русалки» Даргомыжского, — то, что я еще помнил из прошлой жизни. И он говорит: «Ничего себе…» Глубоко и пронзительно посмотрел на меня, потом улыбнулся. Я думаю, он все понял и поверил в меня.
Оказалось, мой голос изменился, стал плотнее, ниже. Раньше я никак не думал, что буду драматическим тенором. Но, видно, хорошо погулял. Нагулял, напил, накурил. Вот и опустил голос до драматического тенора…
— Главное, как свободно и плотно звучат верхние ноты!..
— «Наумелся» я петь этот верх, вот и пою. (Смеется.)
— А курить продолжаете?
— Редко, летом. Потому что я ленивый. Зимой надо одеваться, чтобы на улицу выходить… Но вообще-то, это пагубная привычка.
— Вернемся к Московской консерватории.
— Поступать было не просто тяжело, а очень тяжело. Петр Ильич присутствовал на моем экзамене по сольфеджио. Когда мы вышли с ним с этого экзамена, он мне сказал: «У меня сложилось такое впечатление, что ты семь лет не просто ничем не занимался, а был в коме…»
И все же я поступил на общих основаниях. Тогда, в 2009 году вместе со мной на вокальный факультет поступало человек 600, а приняли 12 или 13 и несколько платников.
Учился я не как все. За один год закончил 1, 2 и 3 курс. Я ходил в три группы сразу, со всеми, был в консерватории круглосуточно. Пел на концертах и на зачетах каждую неделю, — надо было спеть программу за три года. Однажды, когда я вышел на сцену в очередной четверг, Ирина Ивановна Масленникова не выдержала и возмущенно сказала: «Когда этот Ерохин перестанет петь в консерватории!? Он уже надоел! Отправьте его в театр!»
— Как Вы успевали всё это учить?
— Я довольно быстро учу, но всегда вместе с концертмейстером. Вообще мне надо, чтобы мы с концертмейстером вместе всё потихонечку разбирали. Работаем так, как это было при царе-горохе… Но зато, если я выучил, меня уже ничем не собьешь.
— А что особенно запомнилось из уроков, советов Петра Ильича?
— Петр Ильич работает над тем, чтобы звук был выведен вперед, чтобы слово произносилось отчетливо. И именно он поставил мне верхние ноты, — до него я выше «ля» вообще ничего не пел.
— Вы ведь сам теперь преподаете в музыкальном училище? Какие впечатления?
— Очень мало настоящих больших голосов. Педагоги лепят из того, что есть. Очень часто бывает так, что студент или студентка хороши собой, милые и прекрасные, но этого ведь не достаточно! Я считаю, что хороший человек — это не специальность.
— Что для Вас, как педагога, создает впечатление о певце?
— Я не знаю, что такое «петь правильно». Но я знаю, что певца либо приятно и интересно слушать, либо нет. Он не должен корежиться, передергивать рот, выдавливать из себя звуки… Должен быть психически здоровым, чтобы слушатель не страдал вместе с ним.
Певец должен чувствовать и понимать то, о чем поет. Умен он или нет, — это понятно сразу, с первых трех тактов. Когда я занимаюсь со студентом, прежде всего, до того, как петь я всегда прошу его рассказать, о чем он поет, вместе с ним придумываю историю. И, конечно, работаю над словом.
— Вы ведь начали петь в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, когда сами были еще студентом консерватории?
— Когда я учился в консерватории на четвертом курсе, я уже пел в двух театрах: в Новой опере (в штате), а в Театре имени Станиславского как приглашенный солист.
В Новой опере мы семь месяцев репетировали «Иоланту», после чего я один раз в ней спел. И понял, что так работать — это не мое.
В это время Александр Борисович Титель сделал мне предложение, от которого невозможно было отказаться, — пригласил меня в штат Театра имени Станиславского.
Но привела меня в этот театр Евгения Михайловна Арефьева. В консерватории Евгения Михайловна преподает ансамбль, у нее учатся все вокалисты со всех курсов, и она всех знает. Поэтому она поставляет в театр кадры из консерватории на прослушивание.
Сначала в Театре имени Станиславского я пел партию Левко в «Майской ночи», потом Пьера в «Войне и мире»… Левко — это не Герман, и не Каварадосси, а такой рубаха-парень, тракторист, как я себе его представлял…
— Я Вас в первый раз слышала в «Войне и мире». По-моему, Пьер Безухов — одна из лучших, самых тонко актерски и вокально проработанных Вами партий…
— Я учил ее со слезами на глазах и с матерными словами.
— А такой интеллигентный и теплый образ получился…
— У меня не было опыта исполнения такой музыки: просто как из огня да в полымя. Евгения Михайловна делала со мной партию по два такта в день, на большее я пойти не мог.
Меня трясло и колотило всего вплоть до того, что я хотел отказываться от контракта, — тогда я был приглашенным солистом. Я говорил, что, если все-таки это спою, то в поклоне буду поджигать клавир «Войны и мира» или мелко рвать его и бросать в оркестровую яму. (Смеется.)
 Николай Ерохин и Дмитрий Зуев – Пьер Безухов и Андрей Болконский в опере “Война и мир”
Николай Ерохин и Дмитрий Зуев – Пьер Безухов и Андрей Болконский в опере “Война и мир”
— Судя по тому, как Вы выучили эту партию с Евгенией Михайловной, она терпеливый человек…
— У нее железные, даже титановые нервы. Она говорила мне: «Поматерился, — выйди, погуляй, возвращайся, и будем продолжать». Но мы как-то собрались и сделали этот первый шаг. Теперь партия Пьера Безухова стала одной из моих любимых!
Я её по-настоящему прожил, прочувствовал. Мы с Александром Борисовичем много актерски над ней работали. Мы искали походку: Пьер Безухов ходит по сцене неуверенно-порывистыми движениями; он злится, и тут же ему неудобно, он сам себя останавливает, ругается на Курагина, но тут же просит у него прощения: «Я тебе и денег дам, прости…» А как он, романтик, приезжает на войну: появляется на фронте в белой шляпе и зеленом фраке…
— И еще по поводу партии Пьера Безухова в Вашем исполнении. Мне кажется, что Вы сразу пели и играли как зрелый, опытный певец и актер. Как будто это не вторая партия в Вашей жизни, а десятая…
— Откуда эта уверенность? …Пришло осознание, что я вступил на Свой Путь, на Свою Дорогу. Я очень долго этого искал и ждал, а когда получил дар судьбы, решил собрать все силы в кулак и каждой своей клеточкой понял, что я должен быть достоин. Тружусь на этом поприще по сей день.
— Скоро снова нужно будет повторять «Войну и мир»…
— Да, будем возобновлять в будущем сезоне, надо ее вспоминать, уже в июле начнутся репетиции. С нами, солистами, Александру Борисовичу легче, но войну — массовку с Мосфильма — надо снова ставить.
— Александр Борисович по духу романтик?
— Я думаю, да. Когда он ставил второй акт «Войны и мир», где очень долго нужно стоять на сцене (и это трудно), то рассказывал о своем отце. Рассказывал, как говорил когда-то с отцом, который был на фронте. (Хотя, в принципе люди того поколения не очень любили рассказывать о войне.)
Он спросил отца: «Что было самое трудное на войне?» Отец ему ответил: «Самое трудное было ждать». Когда Александр Борисович рассказал это нам, это подействовало. Все поняли: надо вытерпеть, постоять, подождать… Как мы поем сейчас в опере «Енуфа»: «Пережить это надо».
Я говорю: «Александр Борисович, “пережить это надо” — лозунг, который надо писать на афише оперы “Енуфа”». И в скобках — поклонникам А. Б. Тителя — «Если любишь, все стерпишь».
— «Любишь и терпишь»?
— Мы с Александром Борисовичем в очень хороших отношениях. Настоящие друзья. Я прихожу к нему как к отцу родному для доверительных бесед. С ним обо всем можно говорить. Он всегда поймет и даст правильный совет.
— Была ведь и драматическая история — с премьерой «Пиковой дамы», когда Вы уходили из театра, потому что на первый спектакль назначили другого певца…
— У всех бывают ошибки. Но я долго злиться не люблю. Я в принципе холерик по натуре, взрывной. Даже если что-нибудь иной раз «загну», то не буду ждать, когда ко мне подойдут мириться, сам скажу: «Да, ладно, проехали…» И тут же забуду.
— «Енуфа», очевидно, тоже была непростой историей…
— Я не думал, что справлюсь с партией Лацы в «Енуфе», потому что это для меня непонятная музыка. Я люблю красивые мелодии. Я вообще очень многое интуитивно пою. А когда поешь «в никуда», не чувствуя, на искусственно выработанных рефлексах, какое в этом удовольствие? Или, наоборот, надо как математику всё вычислять…
— Но ведь постепенно и эта музыка осваивается слухом, к ней привыкаешь…
— Нет, для меня петь «Енуфу» — и сейчас сплошная математика. На сцене: один глаз в дирижера, другой в партнера, и если ты чуть-чуть пропустил, — не вступишь, не споешь. Музыка, которая звучит там внизу, в яме, лично мне не помогает.
Мой ответственный концертмейстер в этой опере — Света Ефимова. Она на каждом спектакле «Енуфы» приходит ко мне в гримерку перед спектаклем, и мы поем первый акт. А в антрактах она приходит, и мы поем второй и третий акты. Повторим, и, пока не забыл, я это сразу пою на сцене. Но, надеюсь, я еще дорасту до этой музыки.
— Но, когда Вы поете в «Енуфе», это даже в голову не придет, так все пережито, так естественно… Это не лесть, правда.
— Да, актерское мастерство спасает. У меня была очень хорошая школа актерского мастерства в Новосибирске у Ольги Васильевны Титковой, народной артистки России. Я уже тогда наработал себе всю актерскую палитру, из которой до сих пор черпаю…
Бывает, актерское мастерство пригождается и в жизни. Когда Петер Штайн ставил «Аиду», был такой эпизод. Романс Радамеса — вообще кровавый момент для тенора, только сейчас, через четыре года после премьеры он начал у меня получаться. Штайн говорил: «Когда поете “Un trono vicino al sol”, потихонечку присаживайтесь на коленочки». Он так видел конец Романса. Я делаю то, что он хочет, но говорю: «Что-то у меня першит в горле, не получается, пойду к доктору схожу».
Потом опять работаем. Он: «Вы сначала идете, а потом присаживайтесь на коленочки». Я: «Ой, что-то опять першит». Когда у меня на репетиции запершило в третий раз, он говорит: «Я всё понял, пойте, как хотите». Сейчас я так и делаю. Сначала допеваю, потом присаживаюсь и как бы мысленно обнимаю Аиду.
— Вы говорите, что у Вас что-то не получалось в конце Романса Радамеса. Но, на мой слух, у Вас очень стабильно звучат не только верхние ноты, но и голос на всем диапазоне…
— Как известно, певец бывает здоров раза два за всю свою жизнь. И в это время у него спектаклей нет. (Смеется.)
Стабильность дает школа. У меня были спектакли, во время которых были заложены уши, нос и горло, всё болело. Перед спектаклем предупреждаю дирижера, что я не слышу, и видеть буду через раз. Но в таком больном состоянии можно петь физическими ощущениями: я точно знаю, что, если я сделаю так, нота попадет туда, куда надо и прозвучит.
Конечно, бывают ситуации, которые требуют особой психической и физической выдержки. В сцене с графиней в «Пиковой даме» в нашем театре Станиславского есть поцелуй, — я кидаюсь целовать графиню. А у нас в этом спектакле, Вы же знаете, вода разлита по полу…
К Оксане Корниевской я кинулся так сильно, что у меня поехала нога, в итоге у нее треснул зуб, а свой зуб я просто выбил. Он остался у меня во рту, я утерся, плюнул его в руку, достал пистолет и допел, шепелявя: «Старая ведьма, так я заставлю тебя отвечать…» И это была середина спектакля…
— Я была на этом спектакле. Никто не мог предположить, что что-то случилось.
— Это главное, значит, все получилось, как надо. Потом выйдем и пострадаем дома за рюмкой водки.
— Если у Вас и бывают «приключения» на сцене, то скорее с текстом, — нотами и словами… Но, мне кажется, Вы не теряетесь!
— Я не теряюсь — да! Я никогда не остановлюсь, если забыл слова, буду петь что-нибудь, на любом языке, по пути сочиняя.
Как-то на зачете в консерватории в Малом зале я пел песню «Журавли» советского композитора Яна Френкеля. Забыл слова и вместо «Из-под небес по-птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле» спел: «Из-под земли найду тебя, достану, того, кого со мною рядом нет…А-а-а-а…» Простите, как мог…
— Кстати, в какой тональности Вы поете арию Германа?
— Я пою в ля мажоре. Мне и за это хорошо платят. (Смеется.) Можно спеть вариант на тон выше… Но зачем?
 Николай Ерохин в роли Германа
Николай Ерохин в роли Германа
— Чьи советы, критика, особенно в отношении вокала, для Вас важны?
— В первую очередь — Евгении Михайловны Арефьевой. И еще одного из моих любимейших концертмейстеров — Ирины Оржеховской. Например, Вячеслав Николаевич Осипов работал только с Ирой Оржеховской, и она мне очень многое подсказала, когда мы с ней учили партию Германа. Я знаю, что они скажут мне ту правду и те правильные слова, над которыми я подумаю. И о голосоведении, и о том, как построить ноту, если я не справляюсь.
Они как-то умеют это объяснить, еще и споют, и сыграют за всех. Это не просто концертмейстеры, которые учат с нами партии, это Учителя с большой буквы.
— А какие роли именно «Ваши» — самые любимые?
— Русская музыка. Я вообще люблю петь на русском языке, то, что многие вокалисты, наоборот, не любят делать. Я точно знаю, как сформировать слово внутри, пропустить через свои «молекулы» и донести его до зрителя. Из русских партий любимая — Герман.
— И актерски, и вокально?
— Да, и актерски, и вокально мне очень удобно петь эту партию.
— Но ведь Герман — экзальтированный, в каком-то смысле странный, даже ненормальный герой…
— Почему — ненормальный-то? Абсолютно нормальный. Он просто одержимый. Он особенный.
— Как Вы настраиваетесь на спектакль?
— Для меня важен полноценный отдых дома, где меня никто не трогает: «папа отдыхает», или «папа работает». Только успевай «переставлять флешки». По-другому это не назовешь.
— А что слушаете «для себя»?
— Классическую музыку я слушаю очень редко. Люблю советские песни, романсы, ретро… «Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною…» Обожаю эту музыку, — и слушать, и петь. Из классики Свиридова люблю.
В прошлом году я получил свою первую государственную награду — премию Москвы в области литературы и искусства — как раз за исполнение Свиридова. Я три года пел музыку Свиридова по всей России, это был специальный проект.
— «Все камерно-вокальные сочинения Свиридова».
— Да. Последний концерт был в Большом зале Московской консерватории, где исполнялось 46 романсов Свиридова.
— Как я понимаю, под финал концерта людей можно было выносить из зала… Какие партии Вы хотели бы спеть в будущем?
— Сейчас я работаю над партией Отелло, премьера будет в мае 2019 года. Я очень давно жду этой постановки. Насколько я знаю, ставить будет приглашенный режиссер. Сейчас у меня на выучке также партия Туридду, которую я буду петь в Японии с Александром Николаевичем Лазаревым. Хочу сделать партии Манрико, Калафа.
— Особенность Вашей биографии в том, что Вы поете в основном в одном театре — Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Почему так получается?
— Я же начинающий певец, — матерый, но одновременно молодой. Я ведь пришел в театр в 2011 году, пою всего-то лет семь. Меня еще мало кто знает в мире. Чтобы выступать в других театрах, мне нужно было не просто выучить, а именно напеть репертуар, — спеть каждый спектакль раз двадцать. Только так в любой постановке я буду чувствовать себя спокойно. Вот сейчас я веду переговоры с агентом за границей.
— Но, мне кажется, Вы поете в этом театре так много и потому, что Вас здесь любят, Вы здесь в прямом смысле «центровой».
— Мне повезло. Период моего становления я прошел очень спокойно и пел свои партии, — те, которые легко ложатся на мой голос. Я же не пою Рудольфа в «Богеме» или Альфреда в «Травиате». Один раз спел Ленского. Потом Титель меня завел к себе в кабинет и сказал, что это был первый и последний раз. Я говорю: «А что такое?» Он: «Не верю я, что тебя убьют… И не понимаю, когда звучит баритон, а когда — тенор…»
Что тут возразишь? Меня же не просто так в театре называют «басотенор».
Когда здесь ставили «Тангейзера», я выучил партию. Но оказалось, что к концу второго акта у меня садится голос, я не могу петь дальше. И, хотя я был единственным солистом, назначенным на партию Тангейзера по приказу, я не пел ее.
— А что в партии Тайнгейзера такое, что было настолько неудобно Вам?
— Я тогда еще не умел петь собранным звуком. Голос большой, а написана партия в средней тесситуре, и из-за этого я просто перетруждал голосовые связки.
Валера Микицкий, который выучил ее «для себя», в итоге спас спектакль. Но меня же не наказали, не лишили чего-либо, не заставили вопреки моей воле выходить и петь… Ведь могли же сказать: «А нам какая разница…» Но не исключена возможность, что этот спектакль возобновят, и я буду участвовать в нем.
А еще мне везет на хороших людей. Я считаю, что мне очень крупно повезло, что я попал именно сюда, в театр-дом, где не будут в приказном порядке заставлять тебя что-либо делать. Здесь никто никогда никого не подставляет, мы все уважаем, любим друг друга, обнимаемся, на гастролях в автобусе песни поем. Мы знаем друг друга и поможем на сцене в любой момент.
Когда я вводился в «Кармен», то не мог найти ноту в начале дуэта с Микаэлой, не слышал даже аккорда в начале. Я никогда не забуду, как Микаэла — Маша Пахарь, — подходя с велосипедом к столбу, тихонько мычала мне тон. Я тихо его повторяю, она: «Ага». И только тогда я начинаю: «Parle–moi de ma mère!» Ну, где это может быть так же? С Ксюшей Дудниковой, моей Кармен, мы на одной волне, как брат с сестрой.
Я считаю, что все мы — «певцы Тителя». Так не работают над ролями ни в одном оперном театре, насколько я знаю. Я считаю, что все спектакли, какие ставит Александр Борисович, — это драматические спектакли в первую очередь. Но при этом и музыкальные.
— Но ведь действие на сцене, иногда в неудобных, даже рискованных положениях, позах создает трудности певцам…
— Да, создает. Но всё это запоминается, согласитесь! Конечно, проще встать столбом и спеть, или: «Пойди туда, постой здесь, перейди туда…» Но какой эффект дает то, что делает Титель! Да, он нас актерски выматывает. Но без внутренней тревоги, счастья, любви, без собственной, придуманной нами вместе с ним истории героя настоящего спектакля не было бы.
Я никогда не забуду, как, когда мы ставили «Хованщину», Александр Борисович сказал мне: «Представь себе, что Андрей — это помесь тигра с медведем. Но при этом сердечно открытый человек». Помните, Андрей кладет руку на Эмму, придавливает ее как лев зайчика: «Сидеть смирно! Моё! И никуда отсюда ты не уйдешь»…
— Очень запоминающаяся деталь: в финале «Хованщины» Вы появляетесь, как ребенок, с пакетиком клубники в руках…
— Да. Это Титель придумал. Марфа и Андрей шли по знакомой тропинке. Может быть, по пути нарвали эту лесную клубнику. Зайдя в двери скита Марфа думает о другом, она знает, что случится. А Андрей просто рассматривает всё, видит красоту: домище! свечи красиво горят! И душа его ни с того, ни с сего поет: «Ой, бляха-муха, как же хорошо!.. Где ты, моя волюшка?..»
И только потом, когда до него доходит, что происходит, он к Марфе: «Слушай, а чё это там? Объясни…» Слов для этого, правда, не дали. Поэтому надо как-то руками шевелить, глазами играть. Марфа выбивает у него эту клубнику из рук: очнись, ты понял, зачем ты сюда пришел?!
— И что Вы думаете в этот момент?
— Что думаете? Всё, ворота на замке. Некуда бежать. Я считаю, что Андрей всем сердцем, всей своей натурой, вот так полюбил Эмму. По-другому не мог выразить свою любовь. Только так: иди сюда, будешь моя, я тебя царицей сделаю!
Поэтому в финале я громко и истерично кричу: «Эмма, Эмма!» Там же оркестр бабахает по-сумасшедшему, хор орет, поэтому если спеть, как написано, — тебя просто никто не услышит. Так что «я пою в хору, — все орут, и я ору». Все вместе орём. (Смеется.)
В нашем театре такая труппа, что мы своими силами можем спеть любой спектакль, даже «Войну и мир». Мало какой, а может быть, и ни один другой театр не может сейчас себе это позволить. И еще: есть очень большая ответственность в том, чтобы не подвести.
Например, весь апрель этого года моего партнера, тенора Нажмиддина Мавлянова не было в Москве. Он был далеко, и мне нельзя было заболеть, чтобы не сорвать ему гастроли. В наши спектакли ввестись очень трудно. Поэтому я спел в апреле в шести разных спектаклях: «Пиковая дама», «Медея», «Енуфа», «Мадам Баттерфляй», «Тоска» и «Кармен»…
— Вы не устаете работать в таком ритме?
— Абсолютно не устаю. Я люблю работать, так же как и отдыхать. У меня есть любимая присказка: «Пить, так пить — сказал котёнок, когда несли его топить». Мне надо все делать по максимуму.
— Может быть, я о чем-нибудь не спросила?
— В заключение разговора могу вспомнить только слова классика, Михаила Михайловича Жванецкого: «Самому о себе нужно говорить только хорошее… Источник забудется, а слух останется».
Беседовала Олеся Бобрик